А. А. Северный, Г. Г. Осокина, И. П. Киреева, Н. В. Токарева,
С. Б. Шварков. Клинико-психопатологическое
и соматовегетативное исследование функциональных гипертермий у
подростков // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. -
1990. - Т. 90. - № 8. - С. 94-97.
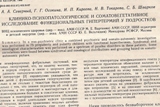 А. А. Северный, Г. Г. Осокина, И. П. Киреева, Н. В. Токарева,
С. Б. Шварков.
А. А. Северный, Г. Г. Осокина, И. П. Киреева, Н. В. Токарева,
С. Б. Шварков.
КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ И
СОМАТОВЕГЕТАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГИПЕРТЕРМИИ У ПОДРОСТКОВ
ВНЦ психического здоровья (дир.—
акад. АМН СССР М. Е. Вартанян) АМН СССР, НИИ педиатрии и детской хирургии
(дир.— акад. АМН СССР Ю. Е. Вельтищев) Минздрава РСФСР, Москва.
S u m m a r y. In a non-psychiatric
clinic a combined psychiatric and somato-autonomic investigation was performed
in 75 prepuberty and puberty children with functional hyperthermics. Syndromal
and nosological characterization was performed on a spectrum of psychic
disorders in these patients. Some correlations were found between syndromal and
nosological distributions and grouping based on somato-autonomic picture.
Изучение неинфекционных фебрильных
состояний, или функциональных гипертермий, что, по нашему мнению, точнее,
важно в первую очередь в связи с широким распространением данного
патологического состояния среди детей [3].
В литературе [2]
справедливо указывается, что дезадаптация детей с функционаьными гипертермиями
связана не только и не столько с тяжестью болезненного состояния, сколько с
тем, что знания педиатров об этой патологии недостаточны, а это приводит к
многократным и длительным стационированиям больных в соматические клиники, к
многообразным и повторным параклиническим обследованиям, массивным и порой
длительным курсам противовоспалительной терапии, включая применение
мощных антибиотиков.
Кроме того, следует отметить еще один
фактор дезадаптации, который мы называем ятрогенной дезадаптацией, а именно
создание искусственной и неоправданной социальной депривации больных детей
вследствие необоснованных ограничений, накладываемых врачами на их деятельность:
запреты занятий спортом (даже в периоды благополучного самочувствия),
освобождение от посещения школы, переход на домашнее обучение, длительное
лечение в стационарах и т. п., что усиливает учебные проблемы больных,
способствует
нарушению их связей со сверстниками, углублению чувства неполноценности,
сужению интересов, снижению возможностей реализации своих способностей,
усугубляет сосредоточенность на своих болезненных ошушениях и переживаниях.
Вводимый по рекомендации врачей и по инициативе родителей сверхщадящий режим
для больных в семье также углубляет их дезадаптацию. Подобная ситуация в
принципе характерна для всех детей с функциональными вегетосоматическими
расстройствами. Хотя в работах педиатров-интернистов [ 1, 3], посвященных
длительным подъемам температуры неинфекционного генеза у детей, подчеркивается
практически облигатное наличие у больных тех или иных психических нарушений,
специальных психиатрических исследований по этому поводу в отечественном литературе
нам не встретилось, за исключенном описания маскированных психопатологических
синдромов с фебрил
и- тетом при детской шизофрении [2].
В зарубежной литературе можно указать лишь на упоминание фебрильных состояний
при невропатии [5] и на описание «психогенной лихорадки» в руководстве по
детской психосоматике [6], где функциональные подъемы температуры
рассматриваются исключительно с психодинамических позиций.
Нами
проводилось безвыборочное клинико-психопатологическое
и соматовегетативное обследование всех детей препубертатного и
пубертатного
возраста, поступавших в педиатрический соматический стационар по поводу
длительных и рецидивирующих подъемов температуры, не связанных с
воспалительным процессом. Для интерпретации результатов следует с
самого
начала подчеркнуть тот факт, что мы имели дело со стационарным
контингентом, т.
е. с наиболее выраженными, затяжными случаями заболевания,
поскольку больные
поступали в клинику, как правило, после повторных стационирований в
больницы по
месту жительства, неоднократных обследований и различных курсов
противовоспалительного лечения. Таким образом, наши данные,
естественно, не отражают
синдромальную и нозологическую структуру болезненных стояний с
функциональными гипертермиями в подростковой популяции, в
первую очередь, очевидно, за счет сдвига в сторону более тяжелых и
прогредиентных
форм заболевания. Всего обследовано 75 больных (24 мальчика и
51 девочка») в возрасте от 9 до 15 лет. Было
проведено многостороннее
соматическое обследование всех пациентов, исключившее воспалительную
природу
гипертермии. Необходимо отметить, что в 2/з случаев имелись
очаги
хронической инфекции, в основном в виде тонзиллитов. Части больных
миндалины и
аденоиды были удалены еще до поступления в клинику, остальные получили
необходимое лечение для санации носоглотки, в том числе
оперативное, не повлиявшее
на характер температуры. Гипертермия функционального происхождения
имеет
специфические отличия от фебрилитета, связанного с воспалением: при ней
повышения температуры чаще всего имеют инвертированную или
неопределенную суточную
динамику при практически облигатном снижении температуры до нормы и
даже ниже в
ночное время; отсутствует эффект жаропонижающих средств
(отрицательная-амидопириновая
проба); у каждого ребенка имеется порог субъективной
чувствительности температуры, который может достигать 38,5
°С; гипертермия в большинстве случаев сопровождается вначале не
ознобом,
а, наоборот, чувством жара в различных частях тела, зачастую имеющим
тягостный
сенестопатический оттенок; кожные покровы на ощупь сухие и негорячие
даже при
высокой температуре; часто отмечается разность температур в подмышечных
впадинах справа и слева до 0,5 оC и больше; повышение температуры
приходится в основном на осенне-весенний сезон, несколько реже на зиму
и совсем
редко бывает летом; порой можно отметить связь подъемов температуры с
психоэмоциональным напряжением или определенной ситуацией.
По характеру
течения гипертермического синдрома его можно было разделить на пароксизмальный
(подъемы температуры до высоких цифр и спады в течение нескольких часов или
одних суток), перманентный (умеренные подъемы температуры на протяжении
длительного времени, в некоторых случаях — лет) и смешанной. Гипертермия
никогда не бывает изолированным симптомом вегетативной дисфункции и сочетается
с другими более или менее разнообразными вегетативными нарушениями, такими, как
колебания пульса и артериального давления, гипергидроз, тошнота и рвота,
похолодание конечностей, обмороки и др. Психопатологические
расстройства были
выявлены у всех больных. Чаше всего (в 77% случаев) встречались
депрессивные
состояния aмбулаторного уровня (лишь 6 больных были переведены в
психиатрическую
клинику), причем субдепрессии всегда носили сенестопатическии характер
с
преобладанием либо адинамии (у 22 больных) , либо
тревоги (у 6). В 8 случаях они усложнялись за счет присоединения к
картине
малых идеаторных автоматизмов и сенестезий, а у 21 больного имели
более полиморфную структуру с рудиментарными обманами
восприятия, в том числе псевдогаллюцинациями, депрессивными и
отрывочными
персекуторными идеями отношения. Мы не будем останавливаться на
достаточно
известных особенностях соматизированных и подростковых
депрессий вообще,
затрудняющих их синдромальную диагностику. Укажем лишь на
некоторые
психопатологические оттенки сенестопатических субдепрессий у
обследованных
больных. При эндогенных субдепрессиях хотя утренние
ухудшения и были характерны для большинства больных, пик спада все же
мог
приходиться и на дневное, и на вечернее время, проявляясь резким
утомлением,
усилением сенестопатий и повышением температуры. Отмечалась отчетливая
связь
патологических ощущений и витальной астении с гипертермией, так что
нередко по
степени плохого самочувствия больные могли точно определить у себя
степень
повышения температуры. При этом они всегда отличали
функциональную
гипертермию от фебрилитета. возникающего при воспалительном
заболевании, в
первую очередь за счет характера и выраженности патологических
ощущений,
особого снижения настроения и активности, в котором преобладала не
физическая
астения, а безразличие, утрата интересов, желаний. Патологические
ощущения чаше
всего локализуются в голове, редко носят вычурный, необычный
оттенок, просты
по своему содержанию (жар, давление, распирание, «просто
боль»), но имеют
типичные для сенестопатий признаки неопределенности, перемещения,
генерализация.
Несмотря на выраженность болезненных ощущений, при
соматовегетативных расстройствах
практически отсутствует ипохондрический компонент депрессии, столь
характерный
для схожих состояний у взрослых. Лишь у подростков более
старшего возраста появлялась фиксация на своем физическом здоровье,
никогда не достигавшая степени ипохондрического толкования. Дети
больше тяготились утратой своей социальной роли, возможности
функционировать в
привычной и притягательной для них среде сверстников (за
исключением случаев
с отчетливой аутизацией и падением активности). Более того, при
неглубоких, стертых состояниях вообще отсутствовало осознание их
болезненной
природы, что производило впечатлние своеобразной анозогнозии. Наконец, следует сказать о чрезвычайной
диссоциированности сложных синдромов, включающих расстройства
галлюцинаторно-бредового регистра, когда отдельные психопатологические компоненты
состояния проявляются как бы совершенно не связанно друг с другом, вне единого содержания
переживаний, в разных транзиторных эпизодах, что крайне затрудняет цельную квалификацию
синдрома.
Что касается особенностей течения
гипертермии при различных
субдепрессиях, то можно отметить связь кризового типа с наличием тревожного
компонента, который в свою очередь проявлялся тем чаще и отчетливей, чем полиморфней
была картина субдепрессии.
У 3 детей отмечены
гипоманиакальные состояния также с сенестопатиями, в основном в виде ощущения
приятного тепла в различных частях тела. У 9 больных речь шла о состояниях
невротического регистра с астеническими и истероформными расстройствами, и еще
в 4 случаях можно было говорить о личностных нарушениях различного типа с
преимущественно вегетативным характером реагирования. У 1 больной диагностирован
эпилептический синдром в виде синкопальных приступов.
Большие сложности представляла
нозологическая оценка заболевания, остающаяся в некоторых случаях пока
неразрешимой. Исходя из критериев, принятых в ВНЦ психического здоровья АМН
СССР [4], у 16 больных диагностирована малопрогредиентная шизофрения, у 17 —
циклотимия и у 14 дифференциальная диагностика этих заболеваний была
затруднена. В целом эндогенная группа составила 65 %, включая еще 2 случая
мягкого шизоаффективного заболевания. В единичных случаях диагностированы
депрессивный невроз, невротическое развитие и резидуально-органическое
поражение головного мозга. Самую сложную группу составили пубертатные
состояния (28%), где диагностика была весьма условна и строилась больше на
критериях исключения других заболеваний. Сюда входили патологические
пубертатные кризы (в том числе на фоне резидуально-органического поражения
мозга), пубертатные акцентуации характера и психопатии (в основном шизотимного
круга), обострения невропатических проявлений в пубертате. Очевидно, многое
может прояснить катамнез, но это лишний раз свидетельствует о недостаточности
наших нозологических критериев на сегодняшний день.
Многостороннее соматовегетативное
и электрофизиологическое обследование больных позволило выявить разнообразные
нарушения вегетативного гомеостаза с большей или меньшей выраженностью
резидуально-органического поражения мозга.
В
22 % случаев установлен
гипоталамический синдром с нейроэндокринными обменными нарушениями
(ожирение,
стрии, гипергидроз, повышенная жажда и реже — гипертрихоз,
огрубение голоса и
расстройства менструального цикла у девочек). Течение
гипертермического
синдрома в этих случаях было перманентно-кризовое. При обследовании на
тепловизоре выявлены извращение проксимально-дистальных
соотношении и значительная термоасимметрия (более 1,5—2 °С).
Отмечались
гиперсимпатикотония, по данным кардиоинтервалографии (КПГ), и снижение
работоспособности
при велоэргометрии (ВЭМ). Гиперсимпатикотония подтверждена данными
эхокардиографии (дисфункция митрального клапана в виде трепетания
створок или
немого пролапса митрального клапана). Характерен гиперкинетический тип
гемодинамики с относительным повышением общего периферического
сопротивления
сосудов, что указывает на периферический вазоспазм.
Обнаружено и снижение сосудисто-тканевого индекса, что
способствует
уменьшению теплоотдачи. Неврологически выявлены выраженная
резидуально-органическая церебральная недостаточность, гипертензионно-
гидроцефальные нарушения. Значительные изменения на ЭЭГ
свидетельствуют о функциональной недостаточности активирующих
аппаратов
среднего мозга и структур переднего гипоталамуса.
Психопатологически здесь
речь шла о преобладании (62 % случаев) полиморфных и более
тяжелых
субдепрессий, а нозологически у 77 % больных диагностированы эндогенные
психические заболевания, преимущественно вялотекущая шизофрения
(на
органически неполноценной почве).
Сходные
синдромально-нозологические соотношения определены (в 53 % случаев более тяжелые
субдепрессии и в 74 % эндогенные психические заболевания) в той группе больных
(33%), где неврологические и патофизиологические данные выражены совсем
незначительно, не складываются в определенную синдромальную картину и не
позволяют судить о возможных механизмах задержки тепла в организме.
Статистически достоверно и
синдромально (лишь 19 % относительно тяжелых субдепрессий), и нозологически
(46 % эндогенных заболеваний) отличается от предыдущих двух групп группа
больных (45%), которые могут расцениваться как имеющие конституциональную
психовегетативную слабость, предположительно связанную с недостаточностью
функции лимбико-ретнкулярного комплекса мозга. Это вытекает из данных
обследований, особенностей конституции (преимущественно астенической), а также
невропатических расстройств в раннем детстве (логоневрозы, энурез, сноговорение
и т. п.). Для этих больных особенно характерными были психовегетативный
синдром с сердечнососудистыми нарушениями (вазоспазмы) и задержка тепла. У
больных этой группы отмечаются также редкая рассеянная мелкоочаговая
неврологическая симптоматика, признаки дисфункции мезодиэнцефальных структур
на ЭЭГ, функциональная недостаточность лимбической системы. Течение гипертермии
смешанное. При тепловизионном обследовании выявлен феномен «термоампутации», т.
е. резкого снижения темнературы дистальных отделов рук вследствие перифернческого
вазоспазма. По данным КИГ, имеется тенденция к симпатикотонии. Физическая
работоспособность, по данным ВЭМ, умеренно снижена.
В заключение несколько слов о
лечении. Поскольку здесь требуется специальное подробное
изложение, мы
выскажем лишь некоторые общие соображения.. Как показал опыт
педиатров-интернистов [1, 3], сомато- и вегетотропная
терапия при функциональных гипертермиях недостаточно эффективна.
Применение же психотропной терапии у наших больных (с учетом
психопатологической
структуры их состояния и психиатрической нозологии) в сочетании с
симптоматической
и патогенетической вегетотропной и нейротропной терапией, назначаемой
педиатрами
и невропатологами, позволило в подавляющем большинстве случаев
(85%) получить
быстрый лечебный эффект, прежде всего в плане улучшения психического
состояния,
выравнивания настроения, ослабления или полного купирования
сенестопатий, повышения
активности и работоспособности и т. д. Одновременно с психотропным эффектом происходит
нормализация вегетативных реакций. Но гипертермия редуцируется менее быстро,
сохраняясь иногда на фоне как будто полностью нормализованного психического
состояния или при кратковременном обострении психических расстройств. В
единичных случаях по неясной для нас причине достаточно массивная сочетанная
терапия дает лишь кратковременный (на период стационарного лечения) эффект с
быстрым возобновлением симптоматики после выписки больного домой, несмотря на
продолжение поддерживающей терапии. Возможно, здесь играют роль не выявленные
в конкретных случаях скрытые психогенные механизмы, патопластическое влияние
которых на проявления эндогенной симптоматики, как известно, тем значительней,
чем мягче течение эндогенного процесса. В любом случае результаты исследования
с полной, на наш взгляд, очевидностью показывает необходимость совместного
обследования и лечения психиатрии и интернистами больных детей с функциональными гипертермиями.
 1.
1.  Брязгунов
И. П. Длительные субфебрилитеты у детей: Автореф. дис... д-ра мед. наук.— М., 1978.
Брязгунов
И. П. Длительные субфебрилитеты у детей: Автореф. дис... д-ра мед. наук.— М., 1978.
 2.
2.  Мамцева
В. Н. // Журн. невропатол. и психиатр,— 1988,- № 8,- С. 57-60.
Мамцева
В. Н. // Журн. невропатол. и психиатр,— 1988,- № 8,- С. 57-60.
 3.
3.  Мяготина
Н. П. Клиническая оценка некоторых состояний с длительным повышением
температуры у детей: Автореф. дис... канд. мед. наук,— М., 1972.
Мяготина
Н. П. Клиническая оценка некоторых состояний с длительным повышением
температуры у детей: Автореф. дис... канд. мед. наук,— М., 1972.
 4.
4.  Руководство
по психиатрии. / Под ред. А. В. Снежневского,— М., 1983,— Т. 1, 2.
Руководство
по психиатрии. / Под ред. А. В. Снежневского,— М., 1983,— Т. 1, 2.
 5.
5.  Штутте
Г. // Клиническая психиатрия: Пер. с нем.— М., 1967.—
С. 678—779.
Штутте
Г. // Клиническая психиатрия: Пер. с нем.— М., 1967.—
С. 678—779.
 6.
6.  Zimprich
Í. Kinderpsychosomatik.— Stuttgart, 1984.
Zimprich
Í. Kinderpsychosomatik.— Stuttgart, 1984.
Поступила 25 04 89
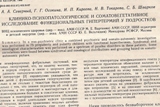 А. А. Северный, Г. Г. Осокина, И. П. Киреева, Н. В. Токарева,
С. Б. Шварков.
А. А. Северный, Г. Г. Осокина, И. П. Киреева, Н. В. Токарева,
С. Б. Шварков.










